1
Молодой бакинец Кирилл Синельников был приглашен Абрамом Федоровичем Иоффе в Физтех после того, как выступил на Четвертом съезде русских физиков (Ленинград, 1924 год). В ту пору Иоффе обуревала идея основанного на явлении поляризации небывалого кристаллического аккумулятора. Доклад бакинца пришелся как нельзя кстати: его опыты были связаны с этим явлением. Когда, вернувшись со съезда в Баку, Синельников попросил совета у своего учителя, профессор Семен Николаевич Усатый сказал, не раздумывая: «Другого такого случая не представится, поезжайте». И вскоре Синельников уже занимался высоковольтной поляризацией у Иоффе.
Трудно было не увлечься идеей небывалого аккумулятора «в жилетном кармане»... К тому же Абрам Федорович что ни день встречал молодого сотрудника своим излюбленным «Ну, что нового?». Сутки приходилось уплотнять до предела, но справиться одному с работой было явно не под силу, и однажды Синельников рассказал Абраму Федоровичу о своем друге — вот он мог работать без устали, за двоих! Друг Синельникова сумел одолеть университетский курс за три года, и не только сам сумел, но и товарищей на это подбил! В довершение этой «курикулюм вита» патрону были показаны письма «буйного Гарьки», где тот описывал проведенные им в Баку опыты по прохождению тока через твердые диэлектрики. Иоффе выслушал молодого сотрудника, прочел письма... и послал приглашение его другу. Так весной того самого 1925 года, когда Лев Термен начал демонстрировать избранным свою установку для дальновидения, а семеновцы Харитон и Вальта озадачили коллег чудесами фосфорного огня, произошло в Физтехе еще одно событие. Оно осталось вовсе не замеченным вне стен института, а в стенах его показалось вполне обычным прибавлением семейства: появился очередной «новенький» и на первых по рах стал работать у Синельникова «на подхвате». Единственно, что было известно на первых порах про «новенького» — что он друг Синельникова, да, пожалуй, еще то, как отозвался о нем физик Дорфман, на беседу с которым тотчас по приезде направил «новенького» Абрам Федорович. На Дорфмана «новенький» произвел впечатление человека четкой, точной мысли, ясных планов.
рах стал работать у Синельникова «на подхвате». Единственно, что было известно на первых порах про «новенького» — что он друг Синельникова, да, пожалуй, еще то, как отозвался о нем физик Дорфман, на беседу с которым тотчас по приезде направил «новенького» Абрам Федорович. На Дорфмана «новенький» произвел впечатление человека четкой, точной мысли, ясных планов.
Характеристика, данная Синельниковым своему другу, — как и отзыв физика Дорфмана — подтвердилась быстро и точно. Новичок любил работать и не терпел в работе неясности — эти качества оценили в Физтехе. «Почти систематически приходилось в полночь удалять его из лаборатории», — много лет спустя вспоминал Абрам Федорович, возвращаясь к тому времени, когда друг Синельникова только поступил в иоффевский «детский сад». Вспоминал Иоффе и о первой самостоятельной работе новичка в лаборатории диэлектриков. Исследовалось прохождение электронов сквозь тонкие пленки. «Уже в этой первой задаче проявилась одна из типичных черт Игоря Васильевича — подмечать противоречия и аномалии и выяснять их прямыми опытами...» Курчатов (именно о нем речь) предпринял опыты после того, как заподозрил ошибку в работе одного иностранного физика — и решил проверить ее. Совместными усилиями друзей «наблюдавшиеся ранее аномалии были устранены»...
2
Подружились они в Симферополе, в университете. Кирилл Синельников появился на первом курсе физмата месяца через два после начала занятий. Учебников почти не было. Когда бы не Игорь Курчатов с его аккуратными конспектами и умением объяснить ясно и просто любое запутанное место — Синельникову пришлось бы на экзаменах туго.
После занятий, перекусив в студенческой столовой, друзья торопились в физическую лабораторию. Они проводили там все свободное время. Синельникова, неплохого токаря и слесаря, вскоре взяли в лабораторию механиком. Потом нашлась должность и для Курчатова — он стал препаратором, готовил опыты для показа на лекциях, мастерил приборы. Как-то, роясь в лабораторном шкафу, друзья извлекли оттуда стеклянную пластинку в коробочке со штампом фирмы «Хильгер». Пытаясь понять, что это за штука, кто-то вспомнил, что видел ее изображение в немецкой «Оптике» Друде — одной из немногих книг по физике в университетской библиотеке. На семинаре у профессора Усатого друзья произвели фурор: воспользовавшись находкой, показали на опыте расщепление желтой линии гелия. То был их первый совместный эксперимент...
И вот они снова работали бок о бок. У самого Иоффе. Студентами они не раз слышали о замечательном физике — их учителя связывала с Иоффе давняя дружба, а конспекты его лекций, которые Семен Николаевич Усатый привез с собой в Симферополь, ввели провинциальных студентов в круг идей современной науки. Тогда, в Крыму, разве могли они представить себе, что через каких-нибудь пять лет станут сотрудниками Иоффе.
...В маленькой симферопольской лаборатории Кирилла Синельникова ценили не только как слесаря и токаря. Еще и как пианиста. По этой части Курчатов не взялся бы тягаться со своим другом; тот играл виртуозно, его «крестным» в музыке был композитор Глазунов. Правда, профессионалом-музыкантом Кирилл не стал. Виртуозность весьма пригодилась в экспериментальной физике. Спустя несколько лет мастерство Синельникова оценил Резерфорд — когда этот русский коллега Питера Капицы продемонстрировал в Кембридже сэру Эрнсту эффектный опыт с волчком. Помещенный в вакуум волчок вращался под действием электромагнитного поля и до того разгонялся, что его разрывало центробежною силой... Пока же в Физтехе недавним студентам пришлось проявить незаурядную «ловкость рук», когда они взялись за опыты над электрической прочностью тонких слоев.
Толщина этих слоев — вернее было бы говорить: их тонина — составляла доли микрона. Размышляя, как к тончайшим слоям подступиться, физик едва ли отдавал себе отчет в том, что, например, волос, который в задумчивости наматывал он себе на палец, содержит этих самых микронов по меньшей мере полста. И все-таки молодые физики наловчились отщеплять от слюдяных пластинок чешуйки требуемой тонины. Инструментом служили обыкновеннейшие булавки... Со стеклом так просто не выходило.
Хитроумными способами добивались своего. На огне заплавляли конец стеклянной трубки, а затем в раскаленную трубку вдували воздух, расширяя нагретый конец. Технология напоминала всем знакомое выдувание мыльного пузыря, и подобно мыльным, стеклянные тонкие стенки переливались всеми цветами радуги. Но в отличие от мыльного, стеклянный пузырь твердел, и тогда от него пинцетиком умудрялись отрывать лепестки, еще более тонкие, чем слюдяные... Помимо стекла и слюды проделывали опыты над тонкою пленкой смолы. Ее расплавляли в чашке, потом окунали туда каркасик из тонюсенькой проволочки. Когда каркасик вытаскивали, его затягивало пленкой смолы, быстро твердевшей на воздухе. Разумеется, все эти лепестки, слои, пленки были страшно нежны, то рвались, то получались с примесями — ничего не было легче, чем повредить их. Даже измерить их толщину обычным прибором не было возможности. Вместо микрометра применили электрический метод.
Когда весною 1927 года в Докладах Академии наук появилась статья об электрической прочности тонких слоев диэлектриков, под статьей стояло три подписи: Иоффе, Курчатов, Синельников. В это время Иоффе находился в Америке. Он писал оттуда 2 марта 1927 года: «Относительно Синельникова и Курчатова: мне кажется, что ввиду того, что они выполняют и мои обязанности, было бы правильно на время моего отсутствия повысить их вознаграждение... за счет моего жалованья, прибавив... Синельникову по 75 р. в месяц... и Курчатову по 50 р. ...»
3
Первое важное открытие Курчатова относится к этому времени: Игорь Курчатов открыл... Павла Кобеко.
Когда в лабораторию поступил новый служитель, Курчатов изучал прохождение тока в смолах. В особенности его занимала олифа — она считалась многообещающим материалом для тонкослойной изоляции. Служитель варил олифу, убирал помещения. Но вскоре, — рассказывал А. Ф. Иоффе, — Курчатов «заметил аномалии в поведении своего служителя — тот слишком хорошо все понимал и признался, что имеет диплом». Началась новая дружба. Она стала особенно тесной после отъезда Кирилла Синельникова к Резерфорду. След этой дружбы остался не только в жизни обоих молодых людей. Заметный след оставила их дружба и в физике. Ибо открытие физиком Курчатовым химика Кобеко привело потом к «самому выдающемуся» — по свидетельству Иоффе — результату в изучении диэлектриков, к открытию сегнетоэлектричества.
Сотрудники Иоффе настойчиво отыскивали вещества с повышенной электрической прочностью. Как-то известный акустик профессор Н. Н. Андреев указал в связи с этим Абраму Федоровичу на сегнетову соль — акустикам были знакомы особые ее свойства. Курчатов и Кобеко, занятые в то время высоковольтной поляризацией, испытав новое вещество, подтвердили на редкость высокую его поляризуемость. Но мало согласиться с существованием факта. Почему он существует — вот что заинтересовало исследователей.
Чтобы разъяснить «аномалию», надо было доискаться ее причин. Друзья ставят опыты над распределением заряда в кристалле соли — подобные тем, которые прежде, в пору погони за небывалым аккумулятором, с другими веществами проделывал Синельников. Сошлифовывая тончайшие слои в поляризованном кристалле — доли микрона, слой за слоем — исследователи заново задавались вопросом «где заряд?».
Ответ оказался неожиданным. В противоположность тому, что наблюдалось у всех прежде испытанных веществ, при поляризации сегнеговой соли электрический заряд, вместо того чтобы собираться в тонком слое у электродов, растекался равномерно по всей толще кристалла. Еще и еще раз проверяли себя экспериментаторы, меняя условия опытов, устанавливая зависимость эффекта от температуры, от силы электрического поля, от длительности воздействия... пока окончательно не убедились в том, что перед ними новые, дотоле неясные стороны в поведении вещества.
Приписать их можно лишь поведению молекул. «Сегнетоэлектрические свойства объясняются ориентацией молекул в электрическом поле» — к такому выводу приходит Курчатов. Это поразительно напоминает намагничивание некоторых веществ — магнитное поле тоже ведь ориентирует атомы и молекулы. Новый класс веществ — сегнетоэлектрики — становится достоянием науки.
Их исследователю еще нет тридцати. Он остается в сущности все тем же «буйным Гарькой», не знающим меры своих сил, не терпящим нерешенных задач, отметающим все и вся, что может отвлечь его от выяснения истины. Ему предлагают командировку за границу. Каждому молодому физику представлялась заманчивой работа в лучших лабораториях мира. Но Курчатов все откладывает поездку: всякий раз, когда надо выезжать, у него идет интересный эксперимент, который он предпочитает поездке...
У Резерфорда в Кембридже и на Международном электротехническом конгрессе в Париже об исследованиях сегнетоэлектричества докладывал А. Ф. Иоффе. «Опыты были произведены исключительно четко, а система кривых... с такой убедительностью демонстрировала открытие, — рассказывал он, — что к ним почти не требовалось пояснений. Мой доклад мог быть прочитан на интернациональном языке диаграмм».
4
В ученых кругах имя Курчатова стало неизменно связываться с июнем Кобеко. Курчатов — Кобеко зазвучало почти так же привычно, как Бойль-Мариот. Вернувшись из-за границы, Синельников, кажется, вправе был упрекнуть своего старого товарища.
Ах, тот скажи любви конец, кто на два года вдаль уедет!...

После двухлетней разлуки друзья обнаруживают, что произошло немало перемен в их жизни. Начать хотя бы с того, что этот мистер Синельников знакомит друга с женой-англичанкой... Впрочем, в ответ Курчатов представляет другу Марину Курчатову. Знакомить ее с Синельниковым излишне, поскольку Марина приходится Кириллу родною сестрой. «Стало быть, мы с тобой теперь почти братья!..» — «Свояки, Кирилл, свояки!»
Мистер и миссис Синельниковы задержались в Ленинграде не долго. От окрепшего к тому времени Физтеха один за другим «отпочковывались» дочерние институты. Страна приступала к осуществлению планов индустриализации, развитие науки, связанной с техникой, становилось государственной задачей.
В первом же году пятилетки началась организация украинского Физтеха. До его открытия Иоффе трижды ездил в Харьков, тогдашнюю столицу республики. «Был у председателя Совнаркома Чубаря и председателя ВСНХ Сухомлина. Все мои предложения об институте, об учреждении здесь физико-механического факультета и об отборе талантливых людей... встречены весьма сочувственно...» — писал он домой.
Для начала шестнадцать сильных физиков переезжают в Харьков из Ленинграда. Синельников в их числе — Иоффе поручил ему продолжить исследования физики диэлектриков. Между тем, подобно многим поработавшим у Резерфорда физикам, Синельников вернулся из Кембриджа, зараженный главным тамошним интересом — атомным ядром. В ленинградском физтехе изучением ядра занимался лишь Д. В. Скобельцын — в связи с космическими лучами, так сказать, в природной естественной лаборатории. У Резерфорда же в Кембридже с тех давних пор, как ему впервые удалось расщепить атом (то был азот), строение ядра оставалось центральной темой — хотя «обстрел» атомных ядер альфа-частицами, которые образуются при естественном радиоактивном распаде, вскоре исчерпал себя. Именно в лаборатории Резерфорда (и это вполне закономерно) возникла мысль намеренно ускорить частицы в электрическом поле для бомбардировки ядра. С таким предложением пришел к шефу Джон Коккрофт, друг Петра Капицы, осенью 1928 года.
Синельников стал уже заправским кембриджцем к тому времени и мог оценить эту идею по достоинству. Оценил ее и сэр Эрнст. Молодые его сотрудники Коккрофт и Уолтон с жаром взялись за постройку «ионной пушки». Однако создать высоковольтную установку чуть ли не на полмиллиона вольт оказалось довольно сложно. Работа затягивалась. Когда Синельникову пришла пора прощаться с Кембриджем, до пуска «пушки» было еще далеко.
Но идеи... идеи стреляли! Под их высоким напряжением вернулся молодой физик из-за границы. И едва обосновался в Харькове, как принялся за постройку установки высокого напряжения. В этом своем увлечении он оказался не одинок. Еще одну установку — иного типа, но для тех же целей — начал сооружать другой новоиспеченный харьковчанин, Александр Лейпунский.
А Иоффе был поглощен диэлектриками целиком. Казалось, проблема электрической изоляции будет вот-вот решена, но из проблемы диэлектриков стала вырисовываться проблема электронных полупроводников, и Абраму Федоровичу уже видится их будущее... По старой памяти сотрудничество Курчатова с Синельниковым представляется ему весьма плодотворным, расстояние не должно служить помехой. Ленинградец Курчатов становится частым гостем в Харькове, вместе с Синельниковым они берутся за изучение «твердых» выпрямителей, нащупывая пути для нового раздела физики — для физики полупроводников.
«Свояк свояка видит издалека!» — поддразнивают друзей. Но, конечно, не только свойство и дружба тянут физика в Харьков, хоть он и говорит шутя, что ездит туда отдыхать. Физик Курчатов на перепутье. Проблема сегнетоэлектриков — его проблема — в принципе решена, речь идет уже о технических применениях нового класса веществ. Курчатов сумел заинтересовать этим группу инженеров... Похоже, что ему вообще свойственно увлекать за собой и даже подчинять себе людей — не случайно прозвали его Генералом. Но вопрос, что делать дальше, все острее его тревожит. В Ленинграде у двадцатисемилетнего физика собственная лаборатория, однако он слишком тесно связан со своим учителем, чтобы сойти с проложенных рельс. По-видимому, если не сворачивать с рельс, ему действительно следует заняться полупроводниками... А его тянет в Харьков. Тянет все больше.
В новом, не устоявшемся еще институте, на «отлете», физики чувствуют себя повольготнее. Курчатов, которого в шутку называют здесь штатным гостем, постепенно влезает в «самостийную работу Синельникова — сперва как любознательный друг, потом как участливый советчик со свежим глазом, а потом — добровольный помощник, — стремясь на выручку к другу. Тот стал делать свою установку иначе, чем Коккрофт в Кембридже. Но трудностей от этого не убавилось. Проведенные в тридцать первом году опыты не принесли успеха...
5
Любая область человеческого знания переживала свои бури и свои затишья. Блестящие взлеты перемежались подчас долгими временами медленного, постепенного накопления, уточнения, осмысления. Да и внутри каждой науки ученые никогда не шагали парадной колонной. Овладение истиной никак не напоминает парада. Это скорее бой. А в бою ритм движения сложен: бросок — окопались, бросок — окопались. Один взвод атакует, другой — залег... Двадцатые годы в физике были золотой порой теоретиков, породивших квантовую механику. В вероятностном зыбком тумане «взвод» экспериментаторов поначалу почувствовал себя неуютно. Но в тридцатых годах пробил их час. Уже не только Гейзенберг, Бор, де Бройль властители дум среди физиков, но и Чедвик, и Жолио-Кюри...
Год 1932-й, когда наступило время экспериментаторов, вошли в историю физики как «год чудес». Для ленинградцев «год чудес» начался с письма Фредерика Жолио-Кюри.
«Мадам Жолио и я, — известил он своего друга Дмитрия Скобельцына, незадолго перед тем вернувшегося в Ленинград из Парижа, где работал бок о бок с Жолио в институте Кюри, — заняты опытами по определению природы открытого Боте и Бекером явления проникающего излучения гамма-частиц, вызванного бомбардировкой легких ядер альфа-частицами. Мы пришли к новым интересным результатам...»
Излучение легко проникало внутрь атомных ядер — Ирен и Фредерик Жолио-Кюри сообщили об этом в «Отчетах» Парижской академии в январе 1932 года. Новость вызвала большой интерес среди физиков, в Ленинградском Физтехе тоже. Какова природа загадочного излучения, вот что оставалось неясным. Но не прошло месяца, как на вопрос о природе излучения последовал ответ. Из Кембриджа. Из лаборатории Резерфорда. От Джемса Чедвика, участника первых опытов по расщеплению азота и первого кембриджского экзаменатора (давно это было!) молодого русского физика Петра Капицы. 27 февраля Чедвик сообщил об открытии третьей элементарной частицы — нейтрона (до тех пор известны были электрон и протон). «Чувствовать, как тебя опережают другие, которые немедленно повторяют твои опыты, довольно неприятно», — признался по этому поводу Жолио-Кюри в письме к Скобельцыну от 2 апреля.
В том апреле на заседании Лондонского Королевского общества было доложено еще об одном успехе кембриджских физиков; заметка об этом появилась в печати в мае. Ближайший сотрудник Синельникова Антон Вальтер писал, что эта заметка «оповестила весь мир о грандиозной победе, одержанной молодыми учеными Кокрофтом и Уолтоном...» Для харьковчан заметка означала, что им не удастся доставить кембриджцам того удовольствия, какое кембриджец Чедвик доставил парижанину Жолио-Кюри. Выбранный Синельниковым (так же, кстати, как и выбранный его коллегой Лейпунским) путь оказался неудачным.
Впрочем, Коккрофт и Уолтон добились успеха отчасти неожиданно для самих себя.
Вероятно, они еще долго возились бы со своей установкой, но Резерфорду надоело ждать, и он потребовал результатов — любых! И тогда, дабы умаслить шефа, молодые физики решили испытать установку «вполсилы». Но этого — к их удивлению — оказалось достаточно, чтобы расщепить атомное ядро. Поток специально ускоренных быстрых протонов превращал ядра лития в ядра гелия!..
Известие об этом дошло до Харькова в мае, а в июне харьковчане уже разрабатывали установку, подобную кембриджской. Физикам помогали рабочие и инженеры харьковских заводов. Понадобились толстостенные стеклянные цилиндры — их тут же изготовили на стекольном заводе в Мерефе. «Штатный гость» Курчатов, разумеется, в стороне не остался. Начал возиться с ускорительной трубкой. В октябре высоковольтная установка с трубкой на 350 тысяч вольт была готова к эксперименту. Его провели 11-го числа. Газетный репортер так описывал это событие:
«Зал. В зале — приземистая будка, оклеенная оловянной бумагой. В будку влез человек. И все из зала быстро ушли. Пребывание в нем грозило смертью. Тогда включили ток высокого напряжения... Человек в будке, по фамилии Синельников, изогнувшись, неотрывно глядел в микроскоп, упиравшийся в трубку. Он ждал, не покажутся ли сцинциляции, вспыхивающие звездочки на пластинке лития? И вот он увидел их, оранжевые мерцающие вспышки на пластинке... В октябре 1932 года высоковольтная бригада по расщеплению атома могла рапортовать ЦК партии: атом разбит! Оранжевые вспышки на пластинке были тому доказательством...»
6
Сенсации в физике, начавшиеся в том году в феврале с открытия нейтрона, не кончились расщеплением лития в апреле. 2 августа, в то время как в Харькове был самый разгар работы над новою установкой, К. Д. Андерсон в Калифорнии обнаружил при исследовании космических лучей еще одну ядерную частицу — предсказанный двумя годами ранее позитрон. Все яснее и в то же время сложнее, сложнее и интереснее становилась картина атомного ядра.
 И все-таки многие товарищи Курчатова поглядывают искоса на его увлечение ядром: «разбрасываешься! легкомыслие!» Признанный специалист по физике диэлектриков, он стал руководить в Физтехе отделом, изучающим свойства кристаллических и аморфных тел. Казалось бы, частым его поездкам в Харьков пора прекратиться или по крайней мере сделаться реже. Но этого не произошло, скорее даже напротив — с некоторых пор он ездит туда с еще большей охотой, чем раньше. Точнее — с той же осени «года чудес», когда в Харькове обосновался вернувшийся от Бора молодой Лев Ландау. Он возглавил теоретический отдел, и на дверях его кабинета появилась соответствующая его сану вывеска: «Л. Ландау. Осторожно! Кусается!»
И все-таки многие товарищи Курчатова поглядывают искоса на его увлечение ядром: «разбрасываешься! легкомыслие!» Признанный специалист по физике диэлектриков, он стал руководить в Физтехе отделом, изучающим свойства кристаллических и аморфных тел. Казалось бы, частым его поездкам в Харьков пора прекратиться или по крайней мере сделаться реже. Но этого не произошло, скорее даже напротив — с некоторых пор он ездит туда с еще большей охотой, чем раньше. Точнее — с той же осени «года чудес», когда в Харькове обосновался вернувшийся от Бора молодой Лев Ландау. Он возглавил теоретический отдел, и на дверях его кабинета появилась соответствующая его сану вывеска: «Л. Ландау. Осторожно! Кусается!»
Курчатов бесстрашно отворял эту дверь. Укусы Ландау раз от разу укрепляли его решимость заняться атомным ядром. Ведь это значило заняться главной проблемой физики. И более того — главной проблемой познания материи. Задачей, которая содержат в себе ответ на вопрос «из чего все»...
Физика созрела для этого после «года чудес»!..
А вопрос «что дальше» беспокоил не только Курчатова. Пора сомнений наступила в Физтехе. Все яснее становится, что патрон со своей главной темой — тонкослойной изоляцией — потерпел неудачу. Его теория ионной лавины с позиции квантовой механики несостоятельна, утверждает теоретик Ландау. Когда, доказав ошибочность основных измерений, Анатолий Александров тою же осенью тридцать второго года ставит точку на этой проблеме, на перепутье оказываются многие «мальчики» Иоффе...
Сделать выбор порою мучительно трудно. В сущности приходится решать заново, казалось бы, давно решенный вопрос — чем заниматься…
Впрочем, для самого Абрама Федоровича Иоффе проблемы диэлектриков естественно переходят в проблему полупроводников, и некоторым из его «мальчиков» оказывается по пути с патроном. Для Павла Кобеко изучение аморфных тел, предпринятое в связи с их изоляционными свойствами (началось с олифы), превращается в исследование полимеризации, основы производства пластмасс. То же направление привлекает Анатолия Александрова. Оба поступают разумно и обоснованно: их новые интересы лежат на продолжении прежних и имеют большое промышленное значение. Курчатов вовсе этого не оспаривал, но сам... сам готов совершить крутой поворот, зигзаг: бросить важную область, в которой стал признанным авторитетом, ради другой области, казалось бы, очень далекой от практических нужд. И переубедить его трудно! Случаются дни, когда споры о будущем, разгоревшись с утра, не смолкают в Физтехе до поздней ночи...
Но Курчатов упрям, он стоит на своем, «год чудес» заканчивается для него успехом: в Физтехе создана особая группа по атомному ядру. «Заместителю начальника группы И. В. Курчатову, — говорилось в приказе по институту, — представить к 1.I.33 план работ группы на 1933 г.». На первых порах (продлится это недолго) возглавил новую группу сам Иоффе. Важность ядерной проблемы к этому времени он уже понимал. Правда, она представлялась чисто познавательной, отвлеченной, далекой от практики.
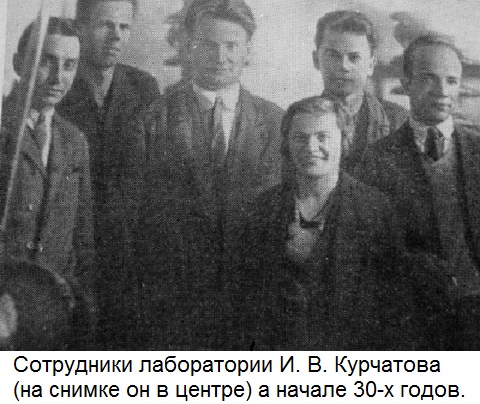
Парадоксально, но факт: в своих высказываниях о технике будущего «фантазер» Иоффе в те годы ни разу не упомянул об атомной энергии. Впрочем, в этом своем неведении он вовсе не был одинок. Ни Резерфорд, ни Эйнштейн не верили в то, что энергию, заключенную в атоме, удастся использовать, а Отто Ган, чья работа непосредственно предшествовала овладению энергией расщепленного урана, говорил, что «это, несомненно, было бы противно воле божьей!».
Отчего же физики тридцатых годов за деревьями потеряли из виду лес, который так ясно различал еще Дмитрий Сергеевич Рождественский, основатель Атомной комиссии в Красном Питере, на полтора десятка лет раньше говоривший о том, как преобразится жизнь человека, когда загадка атома будет разгадана? Из далека семидесятых годов заблуждение отцов физики представляется на редкость наивным. Пожалуй, его можно в какой-то степени объяснить словами Нильса Бора, сказанными в 1936 году: «К сожалению, чем обширнее наши знания о ядерных реакциях, тем отдаленнее представляется это будущее»... «Заниматься ядерной физикой в то время было нелегко, — вспоминал трижды Герой Социалистического Труда член-корреспондент Академии наук СССР К. И. Щелкин. — А. Ф. Иоффе... на время приезда различных обследователей иногда отсылал И. В. Курчатова из института и помалкивал об «оторванных от практики» работах...»
А Генерал сражался уже на два фронта. Курчатов по-прежнему «штатный гость» в Харькове, он вместе с Синельниковым изучает расщепление лития, совершенствует ускорительную трубку. И одновременно сооружает высоковольтную установку у себя в Ленинграде — подобную установке Коккрофта. Благодаря остроумной конструкции она более компактна, но все же требует — по тем временам — непривычно много места. Под новую лабораторию Иоффе жертвует институтский зал — высокий и светлый, исторический зал, где когда-то по синему полу пустили белый кораблик, где праздновали открытие «нового здания», где устраивали собрания и вечера...
Лаборантов у ядерщиков не было, физики монтировали громоздкую свою установку собственными руками, Курчатов, разумеется, вместе со всеми. А кукольный спектакль «Дела ядерные», подготовленный к пятнадцатилетию института, пришлось показывать уже в другом помещении.
7
Не только кукольный спектакль был посвящен делам ядерным, но и большая научная конференция в сентябре 1933 года. Хотя называлась она Первой Всесоюзной конференцией по атомному ядру, вместе с советскими учеными участвовали в ней посланцы крупнейших физических центров Европы — французы Жолио-Кюри и Перрен, «предсказатель» позитрона англичанин Дирак, итальянец, сотрудник Ферми, Разетти.
 Первым докладчиком был Фредерик Жолио-Кюри. Он говорил о нейтронах, открытие которых подготовил своими работами, но в последний момент упустил. Речь шла о сравнительно уже известных вещах, и все-таки рассказ из «первоисточника» произвел немалое впечатление.
Первым докладчиком был Фредерик Жолио-Кюри. Он говорил о нейтронах, открытие которых подготовил своими работами, но в последний момент упустил. Речь шла о сравнительно уже известных вещах, и все-таки рассказ из «первоисточника» произвел немалое впечатление.
В перерывах между заседаниями молодому высокому французу не приходилось скучать. Со старым другом Скобельцыным, соседом по подвалу Радиевого института на Рю д″Ульм, и с друзьями новыми — Курчатовым. Алихановым — бродили шумной стайкой по осеннему Ленинграду, и хозяева, как это обычно бывает, изо всех сил старались «влюбить» гостя в свой город. Ну, и — попутно — разговаривали о физике. Их нельзя было назвать ровесниками ни по возрасту, ни по «весу» в науке. Здесь старшинство, бесспорно, принадлежало тридцатитрехлетнему Жолио-Кюри. Проявлялось же оно в том, что он, пожалуй, яснее коллег представлял себе всю трудность проникновения в потаенный ядерный микромир.
Физики еще толком не знали, как браться за эту задачу.
Скобельцын считал, что лучший путь — изучать космические лучи, Алиханов интересовался образованием позитронов и позитронно-электронных нар, Синельников и Лейпунский обстреливали ядра протонами, хотя заряженные частицы проникали только в легкие ядра. Да и сам Жолио-Кюри, находясь на пороге главного события своей жизни — открытия искусственной радиоактивности, еще не сознавал этого, хотя в сущности почти все было сделано для того, чтобы открытие состоялось. Но оно еще не состоялось, невзирая на то, что именно этой теме посвятил Жолио-Кюри свой второй доклад на конференции в Ленинграде.
Доклад носил длинное название: «Возникновение позитронов при материализации фотонов и превращения ядер». На сей раз, в отличие от первого доклада, исследователь рассказывал о новых и — как оказалось впоследствии — еще не понятых экспериментах.
Верные излюбленной своей методике, Фредерик и Ирен Жолио-Кюри по-прежнему обстреливали ядра различных атомов альфа-частицами — продуктами радиоактивности полония. Порой вместо ожидаемых, ставших уже привычными протонов из ядер вылетали частицы новые, недавно открытые, — нейтроны и позитроны. Наблюдение было необычно хотя бы тем, что впервые обнаружили себя позитроны «земного» происхождения — до сих пор их вылавливали лишь в космических лучах.
Сообщение Жолио-Кюри в Ленинграде приняли с интересом, но особых дискуссий оно там не вызвало. Споры по этому поводу разгорелись в Брюсселе.
Не прошло и месяца после ленинградской конференции, как Жолио-Кюри рассказал о своих новых работах на Седьмом Сольвейском конгрессе. Как всегда, конгресс обсуждал главную тему физики. На сей раз — строение атомного ядра. Мало того, что сообщение Жолио-Кюри породило споры. Большинство присутствующих попросту усомнилось в точности опытов. И супругам Жолио-Кюри ничего не оставалось, как, вернувшись с конгресса в Париж, устроить самим себе экзамен с пристрастием.
«Мы не ошиблись с положительными электронами при превращениях элементов, — мог написать Фредерик Жолио-Кюри Скобельцыну после проверки «сомнительных» результатов. — Совсем недавно мы открыли следующий факт. Эмиссия позитронов пластинками алюминия, бора или магния, облученных альфа-частицами полония, сохраняется и после устранения полония... Создана настоящая радиоактивность... Мы химически выделили и определили элементы, получающиеся в результате облучения бора и алюминия — это азот и фосфор...»
Заметка об открытии искусственной радиоактивности была помещена в Отчетах Парижской академии наук 15 января 1934 года. Это открытие, первыми о котором услышали на своей ленинградской конференции советские физики, знаменовало новый этап в науке. Оно заслуженно принесло его авторам Нобелевскую премию. И оно побудило молодого римлянина Энрико Ферми проделать похожие опыты, заменив лишь «снаряд» — вместо излюбленных французами альфа-частиц итальянец решил «стрелять» по ядру нейтронами. Ведь сами супруги Жолио-Кюри еще до опытов Чедвика установили, что неведомое излучение, оказавшееся потом нейтронным, способно легко проникать внутрь атомных ядер. Это было нетрудно объяснить отсутствием электрического заряда у новой частицы. Выступая на ленинградской конференции, Жолио-Кюри упомянул о воздействии нейтронами на атомное ядро — такие попытки начались сразу же после открытия нейтрона.
«При этом, — сказал ученый, — нейтрон захватывается ядром и вызывает его превращение в другое ядро, что сопровождается выбрасыванием протона или альфа-частицы...» Иными словами, происходила реакция как раз обратная той, которая привела к открытию нейтрона и которой сам Жолио-Кюри оставался верен в своих опытах.
Ферми прочел эту реакцию без предубеждения, справа налево. Он был, по свидетельству его жены, «человек методический и... двинулся по порядку, следуя периодической таблице элементов, начиная с самого легкого — водорода». На девятом элементе «упорство его было вознаграждено. Фтор активировался очень сильно, а также и другие, следующие за ним элементы периодической таблицы...»
Шел май 1934 года. Узнав об опытах итальянцев, ленинградец Курчатов со свойственной ему решительностью оставил работу с протонами, даром что она стоила ему многих напряженных месяцев. Последствия этой решительности сказались без промедления: уже в августе Доклады Академии наук СССР по представлению академика А. Ф. Иоффе напечатали работы Курчатова с товарищами, посвященные «эффекту Ферми». Ленинградцы изучили энергетическую сторону превращения фтора, разобрались в превращениях алюминия, идущих двояким путем, доказали раздвоение реакции при облучении фосфора...
Они еще шли по чужому следу. Однако это было не повторение, а развитие — замечены важные подробности, сделаны уточнения, расширены границы. Для неспециалистов эти небольшие завоевания несущественны, для специалистов — необходимы.
Пора сомнений осталась уже позади. Гуляя по Киеву — приехали на конференцию, а она оказалась скучной, — Александров, Курчатов и Кобеко подвели итоги своей двухлетней дискуссии «на перепутье». Каждый из них признал правоту друзей, но никто не отступился от своего. Придя к соглашению на центральной улице города, физики попытались отметить это событие игрой в чехарду. К порядку их призвал милиционер. Но друзья не растерялись. «Мы спортсмены, — объяснили они. — Готовимся к соревнованиям».
Что касается Игоря Курчатова, бесповоротно выбравшего ядро, соревнования ему предстояли потруднее спортивных. Его учитель академик Иоффе лишний раз отметил это на праздничном вечере в Физтехе, преподнося сотрудникам шуточные подарки. Когда дошла очередь до Курчатова, Абрам Федорович вышел ему навстречу с воздушным шариком, но едва Курчатов протянул к шарику руку, как Иоффе разжал пальцы... Поднявшись к потолку, подарок стал виден всем, кто был в зале, — воздушный шарик и надпись на нем: «Нейтрон».
Голыми руками нейтрон не возьмешь — такова была, но-видимому, мораль сей басни...
8
А физики пытались проделать именно это.
Если бы летом 1934 года ленинградский Физтех посетил человек, побывавший перед этим в Римском университете, он, вполне возможно, решил бы, что между физиками идет матч в спринтерском беге, заочный матч. Беговою дорожкой служили коридоры вторых этажей физического факультета в Риме и Физико-технического института в Ленинграде. Энрико Ферми и Эдоардо Амальди выступали за Рим, Игорь Курчатов — за Ленинград. Методика нейтронных экспериментов требовала быстроты ног.
Облучать испытуемые вещества следовало на достаточном расстоянии от места, где мерилась наведенная радиоактивность, иначе первичное излучение могло ее исказить. Но в то же время дистанция должна была быть не слишком велика, чтобы поспеть донести до приборов короткоживущие ядра. В Ленинграде парафиновый бак, где хранилась ампула с источником нейтронов, стоял возле лестницы. Раз в неделю физтеховцы получали такую небольшую стеклянную ампулу из Радиевого института. Именно там находился единственный в городе грамм радия. Там наполняли ампулу его эманацией и порошком бериллия. Опыт состоял в том, что эта ампула плотно обертывалась «мишенью» — листком бумаги, обмазанным вазелином в смеси с порошком испытуемого вещества. Альфа-лучи эманации выбивали из ядер бериллия поток нейтронов. Нейтроны в свою очередь обстреливали мишень. А экспериментатор, выждав положенное время, хватал эту мишень... Тут следовало соблюдать осторожность: разобьешь ампулу — пропала неделя, пока в Радиевом институте вновь не накопится эманация. Экспериментатор осторожно хватал мишень и опрометью кидался с ней по коридору к себе в лабораторию, к окошку камеры Вильсона или счетчика Гейгера. Следы от этих пробежек остались у Курчатова на всю жизнь — радиоактивные ожоги на пальцах... Соблюдая осторожность, он думал об ампулах, а не о себе. Таков уж был стиль в Физтехе — думать не о себе.
Когда однокашник Курчатова по Физтеху Исаак Кикоин перебрался из Ленинграда на Урал — налаживать Уральский Физтех, — как-то поздно вечером к нему в лабораторию заглянул товарищ — приверженец другого стиля. «Работаешь? — спросил он с порога. — Работай, работай. Работа дураков любит...» — «Но она не пользуется у них взаимностью», — возразил Кикоин.
Курчатов жил своею работой. А когда все-таки необходима бывала разрядка, он отдыхал по-своему: обожал, например, красить столы...
Вероятно, время, о котором идет речь, можно называть зарею ядерной физики. Но «заря» ученичества не должна была затянуться. «Этап освоения техники ядерных исследований был пройден ударным темпом. Дальнейшая задача — развертывание творческой исследовательской работы — несравненно более трудная... должна быть и будет нами разрешена», — уверенно писал в 1933 году один из харьковских друзей Курчатова. Минуло два года, прежде чем Курчатов смог сказать наверняка, что разрешил эту задачу — не повторять, а исследовать. Первый настоящий успех ему как ядерщику принес 1935 год.
Он продолжал исправно носиться по коридору Физтеха, зажав в руке, как эстафетную палочку, облученную нейтронами мишень. Когда после фтора, алюминия, фосфора, золота настала очередь брома, обнаружился любопытный факт — счетчик продолжал щелкать, хотя — по Ферми — остаточной активности давно следовало сойти на нет.
Вдобавок к законным двум радиоактивным элементам после нейтронной бомбардировки брома получался еще незаконный третий. Откуда он взялся, было непонятно. Две ветви ядерной реакции, установленные для брома Ферми, соответствовали двум устойчивым изотопам этого элемента. О третьем изотопе науке ничего не было известно, и такое толкование выглядело мало правдоподобным. Опять перед Курчатовым была аномалия — и требовала прояснения. И отложить решение ему, как всегда, не под силу.
Прямая атака не всегда лучший способ овладения крепостями — в том числе и в науке. Но на этот раз Генерал одержал решительную победу. Ключом к крепостным воротам послужил заданный ученым вопрос: а не существует ли в природе атомных ядер, при одинаковом заряде и массе имеющих неодинаковую структуру? Допустив это, уже нетрудно было прийти к мысли, что такие ядра могли бы обладать и различными радиоактивными свойствами!..
Ядерная изомерия... Это уже не просто подтверждение обнаруженных прежде явлений, не только уточнение или дополнение. Это — новое явление природы, само открытие (сделано оно И. В. Курчатовым совместно с братом Б. В. Курчатовым, Л. В. Мысовским и Л. И. Русиновым). Вскоре оно привело физиков к пониманию того, что атомное ядро может находиться в различных энергетических состояниях — основном и возбужденном. Каким образом происходит переход ядра из одного состояния в другое — возбуждение его или «успокоение», — Курчатов установил позднее. Тогда же открытие явления изомерии означало — для самого Курчатова-физика, — что пора созревания миновала.
Не только личным успехом одного ученого обозначился этот рубеж. К рубежу подошла наука о ядре. Методика «бегом по коридору» исчерпала себя, и будущее ядерной физики зависело от новой техники эксперимента. Наступало время мощных ускорителей, лаборатории ученых все больше становились похожими на заводские цеха... но это уже наступало другое время.

Добавить комментарий